говорю же
Персональный блог TROUBLEWILLFINDME — говорю же
Персональный блог TROUBLEWILLFINDME — говорю же
Подумать только, в наши дни, чтобы купить бутылку вина, нужно-то всего сто рублей. Ну и паспорт, в случае если вам давно есть восемнадцать, но вы не умеете подмигивать продавцам, или вообще ничего не умеете.
Я себя предала, да-да. Мои руки пахнут мандаринами, а сейчас только девятое ноября и оно даже не собирается становиться десятым, хотя, что бы это изменило.
Витрины начинают ярко мигать уже после шести, то есть когда долгожданно, по-зимнему рано темнеет. Гирлянды развешивают куда ни попадя, ей богу, а ведь еще только ноябрь. С потолков в торговых центрах свешиваются ватные снежки, бумажные звезды и стеклянные шарики, а ведь еще только ноябрь, господа, но-я-брь.
Если бы в этих проспектиках, выдаваемых тут и там у метро, вместо глупых слоганов предоставляли крошечные диалоги врача и его пациента, то это выглядело бы примерно вот так:
— Сколько бы вы отдали, чтобы стать кем-то другим?
— Я бы отдал вам свое полное соломы сердце.
А вообще, вам мой совет: не взрослейте, дети. Я вот всю свю жизнь ненавидела красное вино, а потом попробовала белое и теперь трачу на него свои сто рублей столь часто, что это даже начинает становиться грустным. Ну то есть потом-то мне не с кем выбегать под снегопад с размотаным до земли шарфом и в пальто нараспашку и кидаться в снег. Ну потому что никто, кого я знаю, не пьет белого вина.
Да и снегопада тоже нет.
Если бы внутренне равновесие продавали на черном рынке, наравне со всякими тяжелыми веществами, то я была одним из постоянных клиентов.
Потому что это - самое важное. Спокойствие, равновесие, некая внутренняя чистота, словно тебя изнутри вымыли душистым, настоящим мылом без всяких парфюмерных отдушек, именно мылом-мылом, чтобы легче дышалось. Стоит завладеть подобной гармонией целиком - и ты сразу жив, все остальное становится не важным. Недовольство собой, отражающимся во всех зеркальных поверхностях уйдет, уйдет и нервная дрожь от новых людей, и когда руку будет кто-то класть на плечо - будет спокойно, и когда на улице кто-то станет окликать по какой-угодно причине - ты будешь спокоен, потому что у тебя есть внутреннее равновесие, ты согласен с собой, ты спокоен.
Сразу же движения станут плавными, уйдет нервозность, невротичное желание курить, а горячий глинтвейн во все предзимние вечера станет именно согревающим, ароматным вином, а не анастетиком от печали. Равновесие - это балансирование на поваленом через реку бревне, когда ты идешь по нему на носочках и замираешь по самому центру, чтобы послушать птиц. Когда ты не просто не падаешь, но и физически не можешь упасть.
Интересно, как живется людям, у которых подобное равновесие есть?
Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?
Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
…так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.
________________________________________
Я буду с тобой до тех пор, пока ты будешь усыплять меня найденными стихами Бродского, которые я еще не успела прочесть, и которые так тихи и спокойны, которые так бесконечны, что словно берут нас с тобой за руки и уводят за собой, заставляя наши ботинки оставлять следы на невытоптанных дорогах, по которым мы с тобой, по сути, еще только должны будем пройти.
Я буду с тобой до тех пор, пока на кухне, рядом с плитой всегда будут спички, потому что батареи еле работают и приходится зажигать все конфорки, чтобы они трещали, шипели и заставляли дергаться твой силуэт на стенах по всей квартире, пропитывая синим, газовым огнем весь дом, от пола до потолка, пропитывая тобой всю меня, от кончиков теплых носков до макушки.
Я буду с тобой, пока в гостиной, куда мы и не заходим, шумит море, бьясь о закрытые двери и шипя, заливая пеной паркет, и пока в кухне будто бы сосновый бор, заходишь - и иголками под веки, а иголки пахнут зимой, и путаются в ресницах, и остаются в свитерах, так что люди удивляются, откуда с нас в октябре сыплется зима.
Я буду с тобой до тех пор, пока ты будешь шептать мне в уши что-то неразборчивое, что совсем не имеет значения, а я буду слышать шум моря да падающий снег. Да, именно вот так, неравноценно, почти несовместимо. Море и снег. Я буду с тобой до тех пор, пока и я буду что-то шептать тебе - а ты будешь слышать то же, что слышу я. Потому что это и есть оно, то самое. Мы не упустили его, не проморгали, оно не просвистело, как забытый на плите чайник мимо наших ушей, не опало пахнущей лучше всего на свете пудрой с наших щек, не вылилось через щели в полу и стенах остывшим чаем, нет, оно здесь.
И я буду с тобой до тех пор, пока будет ноябрь, и пока не начнется декабрь, и пока декабрь не закончится, потому что ведь он-то уж будет вечно, и пока море бьется в двери гостиной, и пока газ на плите шумит, и пока с головой меня накрывает вовсе не сон.
А ты.
Не надо, не нужно так со мной, зачем, Боже мой.
Pure perfection breaks my heart.


Дело все в том, что никто не станет сжигать солнце только ради того, чтобы попрощаться со мной.
Можно считать себя кем угодно, можно им быть, этим кем-угодно, можно делать что вздумается, можно уехать и не возвращаться, можно уйти из дома и никогда больше не звонить знакомым, можно, выпив чуть больше обыденного, перейти дорогу не в том месте и попасть под машину, можно никогда не выходить из дома, чтобы рано или поздно нашли только иссохшегося тебя на пару с таким же котом, можно делать отвратительные, мерзские вещи, вырывать у людей сумки и вытаскивать сотни из карманов, можно заманивать девушек в подворотни и насиловать, можно мешать парацетомол с водкой. Когда говорят, что можно делать что вздумается - все всегда думают только о плохом.
Но можно же все. Можно быть чудесным, теплым и смешным, чтобы люди, не видев тебя неделю, кидались обнимать, можно брать всех своих домашних животных с улиц, можно не покупать кожаных ремней и шуб, можно никогда не закатывать глаз за чьй-то спиной, можно быть добрым ко всем, не важно, давние ли это люди, сколько времени или болит ли ваша голова, можно умирать за кого-то, можно кого-то любить, можно варить сосиски и мазать хлеб майонезом человеку, живущему в подъезде, можно уезжать куда вздумается, но забирать с собой всех, кому не захочется оставаться одному. Можно, можно, можно - все.
Вот только совсем не хочется, когда знаешь, что no one will ever burn up a sun just to say goodbye to you.
"Я так боюсь застрять здесь. Не в городе, бог с ним, с городом, а застрять вообще, на крошечном уровне развития, с крошечным кругом знаний, с людьми, до которых мне нет дела. Боюсь, но иногда понимаю, что иначе - не будет. Ты же знаешь… а нет, погоди, откуда ты можешь знать. Ну, в общем, знаешь, мы с тобой об этом никогда не говорили - но у меня есть такие вот огромные недостигаемые желания, которые спровоцированы всеми этими людьми, которые в детстве, например, бренчали на пианино - а теперь вот имеют такую работу: играть в филармониях. Я бы хотела быть кем-нибудь из таких: писать книги, например, но, опять же, никогда не стану этого делать знаешь почему? Потому что знаю точно - мне никогда не написать такой книги, которую будут читать на много лет вперед. На которой будут замирать на середине и проверять количество оставшихся страниц, а потом стараться читать медленнее, ну просто потому, что когда книга уже прочитана - заново все то же самое не испытать. Нет, оценивая все объективно - я могла бы что-нибудь да написать, но соль-то в том - я не хочу быть автором чего-нибудь. А на большее не способна. Мне не быть Фаулзом, или Фоером, или Кизом, или как там фамилия того автора, который писал о море так, что люди тонули не вылезая из кресел? Я вот сейчас на середине восхитительной книги, которая по-прежнему остается толстой, то есть я не перебралась еще за середину - и иногда я понимаю, что готова над ней разреветься, ибо она восхитительна и мне бы хотелось, чтобы в моем сознание происходило нечто похожее на то, что происходило в сознании автора. Но там такого нет и не будет, понимаешь?
Мы с тобой сколько не виделись уже, не помню, год, больше? Не важно, в принципе, просто не говорили обо всем еще дольше, и я сейчас даже не хочу, наверное, тебя всем этим расстраивать. Я преврашаюсь в законченного нытика, пап. У меня в голове черт ногу сломит, сама не понимаю, о чем думаю, но каждый раз все становится только абсурднее. Иногда понимаю, что не говорила бы с людьми ой как долго - и была бы в порядке. Некоторые обзаводятся шизофренией - а я была бы окей, но вовсе не потому, что вся из себя такая интровертивная одиночка - а просто мне, чтобы с кем-то поговорить, вовсе не нужнен никто. Я постоянно разговариваю, чтобы ты знал, и не сама с собой, а с людьми, чаще с выдуманными, у них нет даже никаких четких черт, потому что эти люди у меня только ради диалогов, а так как они полностью мои - то они всегда находят о чем со мной поговорить.
Я вот недавно поняла - что смерти не боюсь вовсе, и почему-то именно в этом нет ничего хорошего, да? Ведь взрослые люди должны такого бояться? А я вот нет, только переживаю, что случайно доживу до такого возраста, когда не смогу оставаться наедине с собой - это страшно.
И еще понимаю, что давит на меня мир, словно он не мой - не хорошо такое понимать. И то, что я не скучаю ни по кому - тоже ужасно плохо ведь. Это уже какой-то даже отвратительный эгоцентризм, ты такому меня не учил. Хотя, если по честному, не помню, чтобы ты меня вообще чему-то учил - но это не к листу с плохим воспитанием, это так, как воспитать не знающего своей принадлежности идиота. Мне бы заткнуться, ты прав. Заткнуться и работу себе найти, такую, чтобы с восьми до одиннадцати, чтобы времени на все остальное не оставалось, и тот факт, что меня действительно подташнивает от такой перспективы очень красноречив. Не думаю, что я стала тем самым ребенком, которыем следует гордиться, но, с другой стороны, кто им стал? Все просто люди, работают, возвращаются домой, растят просто людей - и это нормально, даже хорошо, что нам еще, за наши девяносто лет делать-то? Иногда я жалею даже, что какого черта я не одна из тех, кто заканчивает школу, учится на заочном, выходит замуж лет в девятнадцать и обзаводится потомством, ну а потом просто живут. У них, как мне кажется, все хорошо, тем более если у мужа зарплата достаточная (это ведь считается важным, да? я не слишком осведомлена). Они даже счастливы. А тот факт, что такое счастье для меня хуже там, например, чая с сахаром (вот так дрянь, да?) - то это исключительно мой эгоцентризм и какая-то даже неприятная завышенность самооценки.
Но я ни в коему случае не считаю себя лучше, черт возьми, я считаю, действительно, что им - хорошо. У них уже в школе появляется эдакий курс на будущее и они плавно ему следуют, и большинству везет и с мужьями и с детьми и у них все восхительно. Так что лучше бы я была как они, пап, чем сидела бы тут, на кухонном стуле в половине двенадцатого и разговаривала с п устотой (иногда даже вслух, боже мой), и сетовала на свою недостаточную одаренность.
Вот интерсено, а что бы ты действительно на такое сказал мне, если бы вдруг, совершенно внезапно, оказался на стуле напротив, попивающий чай без сахара и слушающий весь этот пуберантный хлам? А? Пап?"
the antlers – putting the dog to sleep
Я, кажется, буду считать так всегда, ибо оно неизменно. Всегда, всегда, каждую ночь, независимо от города, времени года, вкуса чая и музыки если наступает больше двенадцати, а на вас все еще нет пижамы - мир изменяется.
Углы у стен становятся острее, пол тверже, голова тяжелее, пальцы уродливей, и ночь кажется бесконечной, но в том дурном, бессонном духе, когда никуда не деться. Ты кажешься себе намного более одиноким, чем есть на самом деле, более приземленным, возможности ограничиваются, сужаясь в узенькую трещину в стене, в которую никогда, ни в жизнь, не забраться, мир прекращает быть безграничным, руки прекращают быть теплыми, да что там, даже факт, что земля круглая кажется какой-то насмешкой.
После двенадцати нужно ложиться спать, иначе наступает безвыходность со всеми ее глупыми словами, крутящимися в голове и на подушках пальцев, которые так и рвутся куда-то наружу, но они же настолько непомерно печальны, что зачем их выпускать, не нужно.
Сладкое становится горьким, горячее - холодным, теплое - неприятным и душным, ароматное отдает запахом жженого сахара и даже у чая, подумайте только, у самого чая нет больше вкуса.
Лучше ложитесь спать, лучше не оставайтесь до поздна, лучше просто идите спать, а то пропасть в вашей груди, которая обычно не больше арахиса, протянется аж до самых лодыжек.

Я наблюдаю эти пять секунд уже целый вечер и целый вечер у меня все замирает
Так бывает, случается, честно. Ты не веришь – уже даже достаточно долго – а потом тебя сбивает с ног, скрывает с головой, так, что и не продохнуть, так, что действительно, по-настоящему больно и иногда даже ловишь такую мысль, что лучше бы и не было ничего. Но подобное проскальзывает редко, чаще ты просто думаешь, что чувствовать вот так, именно так, сильно, терпко, бесконечно, словно тебя бы уже в живых не было – а ты продолжал чувствовать – невозможно. Но мы живем именно в том мире, где не бывает ничего невозможного.
Когда мы впервые это поняли? Не знаю, честно. Оно как-то нахлынуло в один день, и потом уже казалось, что как это так мы жили иначе. Мы с ней слишком плохи на даты, ну а месяц был август, кажется, где-то ближе к его завершению, хотя возможно это было и в середине. Черт его знает, оно и не важно вовсе. Ладно, сначала мы просто дружили. Ну, сейчас-то я конечно понимаю, что так не дружат – но тогда мы дружили. Хотя красивой она казалась мне всегда, замечательная со всех сторон, редко смеющаяся с незнакомцами да и со знакомыми тоже, но всегда смеявшаяся со мной. Вот вам подсказка, ребятки: если вы смеетесь так, что кружится голова – значит такая дружба еще сможет сыграть с вами злейшую из шуток, однако и самую сумасшедшую. И еще имя у нее такое, что подходит обоим полам – хотя это, конечно, играет меньшую из всех ролей, просто иногда мне, в разговорах с мало знакомыми, удавалось, избегая личностных окончаний, рассказывать о ней самые замечательные слова и никто меня ни в чем не заподазривал.
Удивительно, но у нас с ней уже было столько всего, что я понятия не имею, как может случаться что-то новое, но случается же. Мы пару раз кричали друг на друга до исступления, знаете, одна из тех ссор, когда уже не можешь вспомнить ни почему вы ссоритесь, ни кто все это начал, ни даже о чем вы пытаетесь докричаться. Мы сажали голоса почти четверть часа, а потом она выскочила из-за стола (или из кресла, если это было в комнате, а не на кухне, не могу вспомнить), и выбежала в коридор, напялив кое как ботинки – почти октябрь ведь был – и не надев пальто захлопнула за собой дверь. А я, так как кричать было не на кого, как-то ошалело, после долгой громкости, направилась за ней, не помня, что собираясь сделать, подошла к двери, которая почти сразу же и распахнулась, едва не задев меня своей деревянной створкой по носу, и злая и фырчащая она ввалилась назад, вылезая из ботинок и что-то говоря… И я вот не помню, что именно она там говорила, но почти сразу же ссора прекратилась, закончившись чем-то таким совершенно ирреальным, безумным, уже даже больше чем страстным, каким-то до страха диким, необходимым. Вот так бывает, что страсть не проходит очень долго, точно знаю – но на практике, когда ты не только об этом знаешь, но вдобавок и чувствуешь, да еще и так, что везде болит, ноет, и мало собственных рук и людских возможностей – это совершенно не поддается алфавиту. Нельзя такое объяснить, просто у слов нет того самого накала, который есть у людей где-то внутри, жаркое, такое абсолютно вечное, вытягивающее тебя за позвоночник по самой напряженной струне и отзывающееся хрипами и всякими безумными птеродактелями в животе.
Вот так штука, скажете вы. Две девчонки – а такие накалы эмоций. И я бы желала согласиться, ибо ну не может такого быть, хотя бы не настолько – но я же была там, я там и сейчас, и я отвечаю со всей ответственностью – настолько. Не всегда, конечно, потому что чаще просто очень сильно щемит и больно, опять таки, даже от поцелуев, что уж говорить об остальном – но все равно оно не желает проходить. А уж то, что больно – отдельная история. Больно так, что… больно. И не сказать иначе, просто больно везде, иногда даже настолько ментально, что и физически. То есть рано или поздно наступает такой момент, что разум не выдерживает столько дикой боли и тогда начинают ныть кисти, виски, затылок, все-все. Боль не от страха потерять или чего-то такого – а просто вот эта вечная боль той любви, которая та самая. Тот вид боли, который мало кто ощущал, ну потому что все-таки редко случаются такие чувства, но тот, кто чувствовал, знает, от чего она. Опять-таки, не объяснить. Нет, ты не боишься за того, кого любишь, нет, не боишься его потерять, или разлюбить, или что разлюбят тебя, или что все закончится – всему нет. Просто тебе больно от того, насколько все сильно. Думаю, это наш приземленный человеческий организм так борется с этими дикими по объемам выбросами всех гормонов сразу, или такой чудной эффект дают эти гармоны, смешиваясь, и поэтому-то и больно. Правда, очень больно. Но все-таки эта боль ничего не меняет, ты к ней привыкаешь, потому что знаешь, что не один ее чувствуешь и что это вроде как нормально, вроде как так и должно быть. То есть ты, конечно, еще умрешь и не единожды (ибо ничто не вечно, да-да, обманываются только глупцы), но пока - все это терпится, все это - какой-то даже необходимый фон.
Ну просто потому что я не знаю, как бы все это чувствовалось без этой боли, выркучивающей запястья. Люди бы с ума сходили, я вас уверяю. Это же все равно что чистый героин на завтрак, обед и ужин - нет, люди слишком слабые, простые, неловкие и запятнанные миром, чтобы чувствовать столько всего сводящего с ума, дикого, безумного сразу и без всякой боли. Нет, что вы.
Горячий, обжигающий мир замирает повсюду вокруг меня, останавливается каждые несколько секунд, как-будто каждый раз кто-то желает сойти.
— Мамочка, у меня получается чувствовать, как кружится вокруг солнца наша планета!
— Не говори глупостей и ложись спать, дорогая, завтра должны поспеть апельсины.
Но ведь действительно получается, стоишь у приближающегося синего поезда и понимаешь, что чувствуешь не только дурманный, самый чудесный запах метро, не только порывы ветра из тоннеля, но и как земля совершает свои обороты вокруг солнца.
Ну неужели все, что сейчас происходит, происходит со мной.
Неужели это я достаю осенние ботинки с верхних полок, неужели это я расчесываю волосы твоей расческой, неужели это я научилась вдруг отстраняться, разглядывать толпу по правую и левую руки и чувствовать себя очень отдельно, как будто бы сейчас эта девушка в смешном оранжевом пальто заденет меня локтем - но ничего не почувствует, потому что я, кажется, и не здесь вовсе.
И, опять-таки, была бы зима. Чтобы вечером, сегодня вечером, когда я не бог весть как буду возвращаться домой - к счастью, здесь пешком всего-то шестнадцать домов - чтобы можно было идти медленнее. Чтобы можно было без зазрений совести выскакивать на пустые перекрески и раскидывать руки в стороны в оранжевом свете от потрескивающих фонарей, чтобы можно было идти еще дольше, потому что не хотелось бы прийти раньше, чтобы было светло, как-будто бы на дворе июль, только такой июль, который со снегом.
Чтобы выбегать из бара в распахнутом пальто и с шарфом, болтающимся до самой земли, бросаться на снег и действительно чувствовать, как под ногами, над головой да и вообще везде кружится наш мир.
Меня спрашивают о мировоззрениях, моих стихах, любви к собакам, музыке и красоте. Спросите и еще что-нибудь.
ASK
Кажется, у нас намечаются проблемы, Хьюстон.
Кажется, я уже придумала себе столько всего, что еще немного - и рассудка лишусь. Кажется, происходит что-то основоположное, в чем я ни черта не понимаю, но, кажется, оно понимает меня многим лучше.
Кружит мой мир, заставляя его закручиваться вокруг себя, заставляя его болтаться, как снег в банках, которые нужно потрясти, чтобы он пошел. Что-то меняет, едва-едва, но рано или поздно становится заметно. Уже начинает быть заметно. Я переделываюсь в кого-то другого, слово за словом, запятая за запятой, ресница, если хотите, за ресницей. Начинаю думать иначе, людей - раньше воспринимаемых вот так, воспринимать иначе, читать, что читала раньше, иначе. Скучать, если скучала раньше, начинаю иначе. Менее заметно. Незаметно вовсе. Могу не звонить людям год, а потом позвать выпить кофе, и тот факт, что люди со мной идут пить этот чертов кофе - странный, до ужаса.
Казалось бы - год, это целый мир, у людей все перетряхивается в головах за год, но они все равно соглашаются на кофе.
Казалось бы - два года, это два новых мировоззрения, а люди все равно не собираются обо мне вспоминать.
Казалось бы - мне должно быть дело, а мне все равно.
Жалко только, что все-таки только октябрь, ибо намного приятней выходить по вечерам на улицу и бросаться на снег, когда он тебя окружает, как в той же банке. И когда твой мир трясет кто-то, у кого эта банка в руках.
Сегодня узнала, что знакома с человеком, которому за лето, целое лето, никто ни разу не позвонил.
А вы говорите, что одиноки.
Теперь хочу поить этого человека чаем всю его жизнь.
Сентябрь сносит в сторону юго-востока, до следующего года, как иногда сносит грозу.
Пара дней - и осень все еще будет продолжаться, но просто месяца на о звучат как-то уютнее. Но дело-то все равно не в них. Дело в, опять-таки, том, как все по-другому, кто бы знал. Это, наверное, зовется хорошо. Недели - сложные, нет времени спать, языки сняты с паузы, нет времени читать книги на своем, люди - замечательные, если честно, я раньше таких не знала, смешные, до настоящих слез, ты - ну, это ведь ты.
Столы в барах все такие же, деревянные, а там, где не деревянные - те бары не настоящие, бегом оттуда. Пепельницы меняют так часто, что даже зря, хотя, с другой стороны, никто, кроме нашего официанта, не узнает сколько мы курим. Даже мы сами, меньше узнаем - раньше умрем. Трубочки в стаканах пластиковые, аскетично черные, а лаймы, пермешанные со льдом, пахнут виски. У тебя все такие же руки, тонкие, узкие, и поэтому, когда ты меня обнимаешь, мне кажется, что ты оборочиваешь их вокруг меня дважды.
Лед становится важнее чая, кто бы мог подумать. Дожди не прекращаются и иногда мне кажется, что я с тобой именно потому, что ты одна из единственных, кому не придет и в голову подарить мне в такую погоду зонт, заметив, что его у меня нет. Я выкинула их все к черту, когда мне не было и семнадцати, хоть что-то делала правильно. Я дописываю свои рассказы, а ты их распечатываешь, не жалея бумаги, а потом сидишь на моем полу и читаешь, хотя я об этом ведь не прошу, такое ведь не нужно печатать, такое годно только для интернета. Сечас ты ушла, а на моем полу все так и лежит довольно-таки плотная стопка листов а4, с одним, сверху, со словом "слепец" посередине. Подумать только, ты наивна настолько, что распечатываешь название на отдельном листе, родная, ты что.
Дождь не кончается. И листья. И сменяемые шарфы. И мы не кончаемся тоже.
Кажется, я обзаведусь новой мантрой, стану повторять "ну кто бы мог подумать кто бы мог подумать кто бы мог, только не я" в любой следующий раз за деревянным барным столом, стаканом с лаймом на ободке, тобой на моем полу и так далее.
Давайте все сойдем с ума и выпьем за октябрь. Он же начинается, слышите. Наступает на полы сентябрьского пальто.
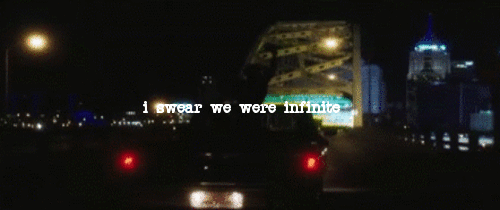
Так много всего крошечного, незаметного практически вовсе, как хлебные крошки, рассыпаные по столу. Но несущего в себе нечто потрясающее, что-то такое, что составляет личность, без чего что-нибудь тоже совсем незначительное - но было бы не так.
Вроде того, когда начальная заставка и первые кадры всех песен о любви заставляют хотеть нобяря, горячего чай, очень долго плакать, а еще сделать так, чтобы везде было очень тихо, потому что придется много слушать и нельзя пропустить и строчки.
Или когда думаешь, что если и обретешь когда-нибудь жизнь, то вряд ли такую, чтобы забираться в кузов пикапа и, под песню Девида Боуи, раскидывать руки в стороны и клясться, что чувствуешь себе бесконечной.
Или вдруг понимать, что нарисованный цветными карандашами самолетный билет действительно каким-то странным образом поможет улететь откуда бы ни было, куда угодно.

Или, опять-таки, глядеть на Кори, который вроде бы говорит, что и не думай, что все закончилось - но понимать, что все действительно закончилось, чтобы он там ни пел.
Или полагать, что крошечный кусочек музыки в 32 секунды может перевернуть мир (murray gold – the end draws near). Ибо кусочек сей полагает уже давно мой мир разрушенным.
И много еще чего, совсем мимолетного - но важного настолько, что хочется не переставать грустить по этому поводу и бояться упустить.
Самые популярные посты